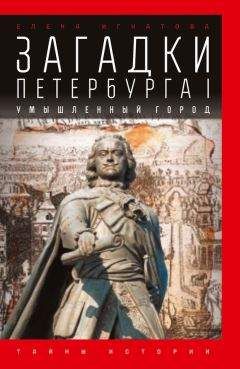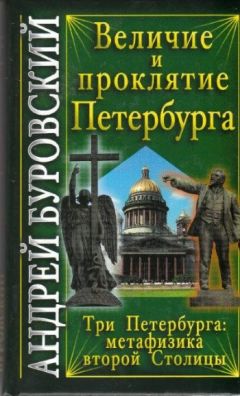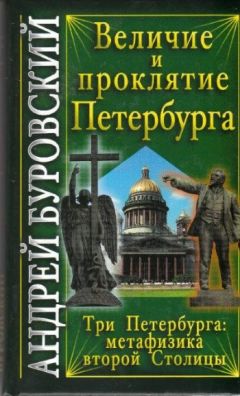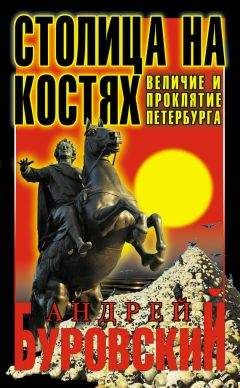Елена Игнатова - Загадки Петербурга II. Город трех революций
По словам Дмитрия Шостаковича, Зощенко «любил производить впечатление человека мягкого, любил притворяться робким»[64], а на деле обладал редкостной твердостью. Недаром в германскую войну он был награжден за храбрость пятью орденами, среди которых два Георгиевских креста. Вся его дальнейшая жизнь требовала не меньшего мужества. Н. Я. Мандельштам вспоминала, как в 1938 году «„Правда“ заказала ему рассказ, и он написал про жену поэта Корнилова, как она ищет работу и ее отовсюду гонят как жену арестованного. Рассказ, разумеется, не напечатали, но в те годы один Зощенко мог решиться на такую демонстрацию». В 1937 году он взял на себя заботу о детях арестованного секретаря Петроградского райкома Авдашева: старший сын Авдашевых жил у Зощенко, а отправленные в детские дома дочери получали посылки и деньги из Ленинграда. В 1939 году одна из них вернулась в Ленинград и тоже нашла приют в семье Зощенко. В те годы помощь детям «врагов народа» требовала невероятной смелости, ведь «каждый поступок противодействия власти требовал мужества, не соразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа», писал А. И. Солженицын. Зощенко постоянно нарушал круговую поруку трусости, и коллеги никогда ему этого не простили. Жена М. Л. Слонимского Ида, с которой Зощенко был дружен со времен «Серапионовых братьев», в воспоминаниях обвиняла его в гордыне и эгоизме. В 1946 году писатели избегали Зощенко как зачумленного, а он «в своей униженной гордыне» посмел спросить Слонимского, почему тот не здоровается. Пришлось сказать напрямик: «Миша, у меня дети». Тогда семья Зощенко жестоко голодала; «как же они все-таки жили? Зощенко, по-моему, ни к кому не обращался за помощью. Он был слишком самолюбив и горд», — писала Ида Слонимская. Она вспоминала его последние дни: «Он лежал на большой постели, одетый, маленький, очень худой, похожий на тряпичную куклу с большой головой, которую надевают на пальцы, на игрушку бибабо». В этом «бибабо» так и слышится — «выродок, выродок!»
Неприязнь коллег к Зощенко и Шостаковичу была вызвана не только завистью; Евгений Шварц запомнил замечание одного из музыкантов: «Чего же вы хотите? Эти композиторы чувствуют, что мыслить как Шостакович для них смерть». То же можно сказать о Михаиле Зощенко. «Неблагозвучная» музыка Шостаковича, искаженная речь персонажей сатирика свидетельствовали о трагической дисгармонии, неблагополучии жизни, и Зощенко обвиняли в клевете на современность, а Шостаковича — в глумлении над традицией. В 1936 году, во время ожесточенной травли, Шостакович был близок к самоубийству. «И в это трудное время, — вспоминал он, — мне очень помогло знакомство с идеями Зощенко. Он говорил, что самоубийство не странный, а чисто инфантильный поступок, восстание низшего уровня психики против высшего. Точнее, даже не восстание, а победа низшего уровня, полная и окончательная победа». Вопрос о контроле над «низшим уровнем психики», о преодолении страха был для Зощенко жизненно важным. Он с юности страдал тяжелой депрессией, тоска, апатия, приступы отчаяния сопровождали его жизнь в самые благополучные времена. Когда болезнь обострялась, он переставал есть, избегал людей и надолго исчезал из дома. Никакое лечение не помогало, и в 1927 году он был близок к смерти (тогда-то Чуковский и говорил ему, что он «самый счастливый человек в СССР»). Зощенко нашел собственный путь к исцелению, позднее он рассказал о нем в повести «Перед восходом солнца». Страх, отчаяние, уныние можно победить с помощью разума, нужно найти причину душевной травмы, которая привела к болезни. «Я часто видел нищих во сне. Грязных. Оборванных. В лохмотьях… В страхе, а иногда и в ужасе я просыпался».
В чем смысл этого многолетнего повторяющегося кошмара? Нищий из снов Михаила Зощенко неожиданно материализовался. С середины 20-х годов на Литейном проспекте каждый день появлялся человек, на груди которого висела картонка с надписью «Поэт», он просил милостыню. Зощенко узнал его — это был поэт Александр Тиняков, до революции имевший некоторую известность и скверную репутацию. Тиняков был даровит, но настоящей славы не добился и восполнял ее недостаток скандалами и эпатажем: в 1914 году прославлял в стихах кайзера Вильгельма, потом опубликовал «Исповедь антисемита», но ему не везло — всякий раз находились скандалисты похлеще. В первой половине 20-х годов Тиняков сотрудничал в «Красной газете», писал статьи о литературе, даже по тем временам выделявшиеся хамски-пренебрежительным тоном, а в 1926 году вышел на Литейный просить подаяния. Его выгнала на улицу не нужда, а все та же потребность в вызове, выверте. «Работаете? — спрашивал он у знакомых писателей. — А по мне, лучше торговать своим телом, чем работать», и похвалялся, что набирает за день до пяти рублей («это куда лучше литературы») и каждый вечер ужинает в ресторане. Живописный нищий на Литейном был хорошо известен в городе, плакатики с надписями «Писатель», «Поэт», «Подайте бывшему поэту» вызывали интерес и сочувствие. Тиняков продолжал сочинять стихи и декламировал их в пивных[65]. В 1930 году его осудили за антисоветские стихи и нищенство на три года заключения в концлагере, в 1934 году он вернулся в Ленинград больной, на костылях, и через несколько месяцев умер. Тиняков поразил Зощенко, он разгадал в образе «бывшего поэта» смысл пугавшей его нищеты, заключавшейся в нравственной гибели, в бездне падения талантливого человека. В повести «Перед восходом солнца» Зощенко цитировал стихи Тинякова:
Пищи сладкой, пищи вкусной
Даруй мне, судьба моя, —
И любой поступок гнусный
Совершу за пищу я.
В сердце чистое нагажу,
Крылья мыслям остригу,
Совершу грабеж и кражу,
Пятки вылижу врагу!
Страшное видение «бывшего поэта» напоминало Зощенко гоголевского Плюшкина — живого мертвеца, «прореху на человечестве». В разговорах с Шостаковичем он не раз возвращался к Тинякову, смысл этих бесед можно восстановить по воспоминаниям композитора: «Тиняков — крайность, но не исключение. Многие думали так, как он делал, просто иные культурные люди не говорили об этом вслух… Психология современного мне интеллигента совершенно изменилась. Судьба заставила его бороться за существование, и он вкладывал в эту борьбу весь пыл интеллигента прежнего… Важным было — есть, урвать, пока еще жив, ломоть жизни послаще». Их окружало множество тиняковых, талантливых и бездарных, но «все они действовали сообща. Они трудились, чтобы сделать наш век циничным, и преуспели в этом».
Тиняков — реальный человек и персонаж повести Зощенко «Перед восходом солнца». Осенью 1943 года первая часть повести вышла в журнале «Октябрь» и сразу стала литературным событием. Зощенко сообщал в письме: «Интерес к работе такой, что в редакции разводят руками, говорят, что такого случая у них не было — журнал исчезает, его крадут, и редакция не может мне дать лишнего экземпляра… В общем, шум исключительный». В следующем номере появилась вторая часть — и тотчас последовал запрет на продолжение публикации. Повесть Зощенко привела Сталина в ярость; «он полагал, что в военное время мы должны кричать только „Ура!“, „Долой!“ и „Да здравствует!“, а тут люди публикуют Бог знает что. Так Зощенко был объявлен гнусным, похотливым животным, у которого нет ни стыда, ни совести», — вспоминал Шостакович. Дело не только в этом, Сталин почувствовал главное — перед ним исповедь свободного человека, размышление о победе разума над страхом. Такого с избытком хватало для опалы, после этого писателю полагалось покаяться и смиренно ждать решения своей участи. Вместо этого Зощенко обратился к Сталину с просьбой снять запрет с публикации: «Я не посмел бы тревожить Вас, если бы не имел глубокого убеждения, что книга моя, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни». Этот писака посмел обращаться к вождю на равных, убеждать и перечить! Сталин не ответил, вместо этого на Зощенко обрушился поток газетной брани, его обвиняли в невежестве и даже в пособничестве врагу. И поделом ему, решили литераторы, он в который раз нарушил рабские правила, а трусость чувствительна к обиде. Особенно гневались писатели с репутацией смелых людей: «Он получил по заслугам», — говорил Константин Симонов, Шкловский публично обличал, а старый приятель Катаев потребовал исключить Зощенко из редколлегии журнала «Крокодил». «Ну, Миша, ты рухнул!» — повторял он, не скрывая злорадства. Однако запрет повести был только репетицией, первым знаком грядущей расправы. Весной 1944 года Зощенко вернулся в Ленинград, его дела постепенно налаживались, его снова стали публиковать, переиздавать, театры ставили его пьесы. «Я теперь вроде начинающего, — писал он редактору Лидии Чаловой. — Мне-то это безразлично, даже легко… по мне, все равно чем заниматься. Хоть куплетами. Работать буду, а что именно — это уж не такой значительный вопрос… Однако трудности будут дьявольские».